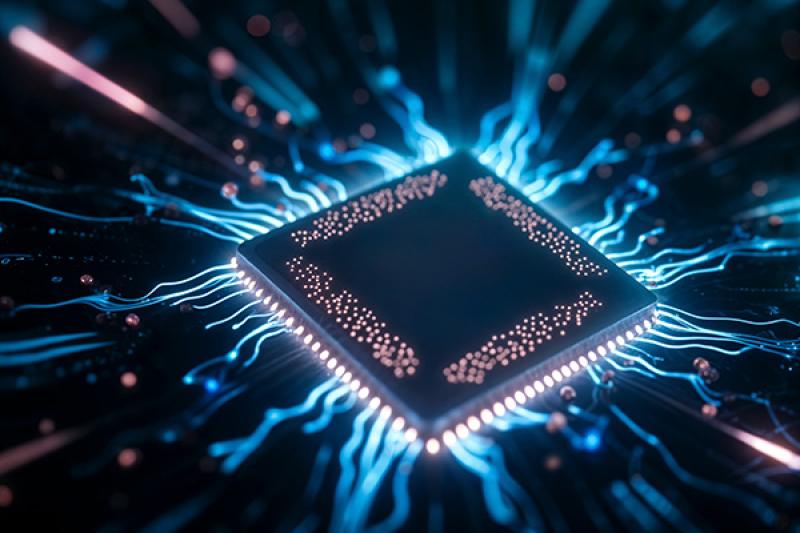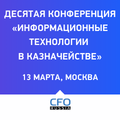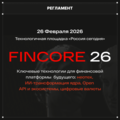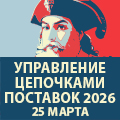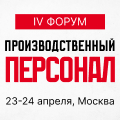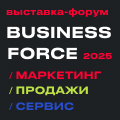Валерия Демарёва (ННГУ им. Н.И. Лобачевского): «Киберпсихолог исследует процесс взаимодействия человека и виртуальных сред, и это очень актуальное направление работы»
— Валерия, киберпсихология изучается в университетах, и магистратура в ННГУ им. Н.И. Лобачевского тому пример. Расскажите, что это за наука?
— Киберпсихология изучает процесс взаимодействия человека или общества и виртуальных сред в самом широком смысле понимания. Это и VR, и дополненная реальность, Интернет, соцсети, а также все другие информационные системы — вплоть до «умного дома»! — которые созданы для человека и которыми человек пользуется. У киберпсихолога три ключевые роли: консультант, исследователь, разработчик. То есть, киберпсихолог исследует процесс взаимодействия человека и виртуальных сред, консультирует при возникновении проблем, разрабатывает новые решения для оптимизации процесса.
Киберпсихология — не отдельное научное направление, а отрасль прикладной психологии. Киберпсихология не так уж нова, она зародилась практически одновременно с появлением первых сложных информационных систем. Как только появились первые ЭВМ, ученые стали обращать внимание, как человек на них реагирует. В 1970-х были написаны первые статьи на тему психологических принципов программного кода ЭВМ. Потому что с помощью ИТ создаются разные решения для человека, и насколько они удобны, безопасны, объективны — это все про психологию.

Заведующая кафедрой и лабораторией киберпсихологии Валерия Демарёва
Источник: пресс-служба ННГУ
Сегодня мы проводим в Интернете больше времени, и это ведет как к новым возможностям, так и новым рискам. Киберпсихолог, действуя на стыке ИТ, психологии и социологии, помогает людям справляться с интернет-зависимостью, «цифровой перегрузкой», кибербуллингом. Он изучает влияние виртуальной среды на психику человека, может дать рекомендации, как безопасно пользоваться цифровыми технологиями.
— Какие исследования проводит кафедра киберпсихологии?
— У нас несколько основных направлений исследовательской работы. Первое — юзабилити-исследования, нейромаркетинг и фокус-группы. Мы изучаем маркеры эмоционального и когнитивного отклика на товары и рекламные элементы, формируем протоколы юзабилити-исследований, а также исследований товаров и рекламных элементов с фокус-группами.
Второе — исследование состояний человека-оператора, направленное на поиск маркеров его когнитивного и эмоционального состояния, общих маркеров оптимальных и экстремальных состояний.
Третье направление — исследования видеоигр и киберспорта: это и про состояние игрока в игре, и про взаимосвязи игрока с игровым аватаром, и про психологические особенности личности, которые влияют на игровой процесс.
По направлению виртуальной и дополненной реальности проводим профориентации детей и взрослых, разрабатываем и тестируем образовательные платформы с использованием VR/AR, исследуем эффективность внедрения игровой практики в образовании, анализируем взаимодействие человека и роботов с использованием VR/AR.
В рамках направления психолингвистики и билингвизма организуем и структурируем лингвистические базы данных, обращаемся к теме геймификации в лингвистике.
Еще одно направление — психология познания и когнитивная психология — включает исследования влияния интернет-медиа на познавательную деятельность человека.
Наконец, по направлению нейрофизиологии проводим мониторинг и диагностику функциональных состояний при помощи методов электрофизиологии при прослушивании музыки.
Это, конечно, далеко не все, чем мы занимаемся на нашей кафедре и в нашей лаборатории.
— Как технически оснащена лаборатория киберпсихологии ННГУ, что можно узнать с помощью этого оборудования?
— Наши магистры в своей научной работе пользуются устройствами для диагностики состояния человека-оператора, детекторами стресса для представителей разных профессий, предметами «умной одежды» с данными о состоянии сотрудников, проходят курсы по программированию Python и big data. Мы используем продвинутые информационные технологии для того, чтобы программировать эксперименты, хранить и обрабатывать данные, строить модели и создавать прототипы решений для человека.
Например, интересные закономерности помогают выявлять VR-шлемы вкупе с датчиками, которые позволяют судить о состоянии человека в VR. Во время наших исследований процессе всего сеанса погружения в VR мы замеряем сердечный ритм и на основании него делаем выводы, что происходит с организмом в зависимости от сценария, как на это влияют пол и возраст. Так, один из магистерских проектов был посвящен анализу влияния разных сценариев в виртуальной реальности на уровень тревожности пользователя. То есть, оценивалось, какие аспекты сценария могут способствовать снижению тревожности.
Пока что ответы на все наши вопросы еще впереди. Например, еще предстоит выявить время, за которое организм адаптируется к VR. Никто пока не проводил достаточного числа экспериментов, в ходе которых люди погружались бы в VR больше чем на 10 минут. Но мы уже четко видим, что, как ни парадоксально, от пятой к десятой минуте в VR негативные реакции организма практически у всех только возрастают. Адаптации к VR за это время не происходит, а почему так – мы пока не знаем.
Бывает, по сердечному ритму вы понимаем, что человека надо срочно возвращать в реальность. Если человеку плохо, его укачало, сердечный ритм ухудшается — надо выходить из VR. В момент возвращения у всех легкий шок, но бывают и явно выраженные неприятные ощущения, тогда человеку требуется моральная поддержка. Как лучше выходить из VR, быстро или постепенно — это тоже в сфере наших исследований.
— Расскажите подробнее об интересах киберпсихолога в области VR/AR, какие сферы применения этих технологий заслуживают внимания ученых?
— Если в VR-клубах вряд ли можно получить какую-то пользу, кроме развлечения и удовольствия, то профессиональное применение VR/AR — другое дело. Так, VR позволяет погружаться в сложные образовательные контексты, и здесь польза очевидна.
Медик в виртуальной реальности может, например, принять участие в сложной операции. У него будет 3D-обзор, он сможет, скажем, приблизиться на комфортное для него расстояние к операционному столу, увидеть со всех сторон разрыв сосудов. В ходе сеанса видеоконференцсвязи нет тех же ощущений. Пока VR не может быть обязательной частью учебного плана. А военные в VR давно тренируют навыки командной и индивидуальной работы.
Новая интересная тема, и ее мы на базе нашей лаборатории как раз прорабатываем, как мы уже сказали выше — умная профориентация. В виртуальном мире ученик может попробовать себя в профессии. И если с помощью датчиков получать обратную связь от организма школьника, то можно оценить, какие виды профессиональной деятельности для него самые комфортные, а на основании этого давать рекомендации.
Конечно, с помощью VR можно научиться управлять транспортным средством, и этим стоит пользоваться, если вас не укачивает от такого симулятора. Но давно есть интересные исследования: пилотов, которые имеют большой опыт налета, в симуляторе самолета укачивает сильнее, чем людей, которые никогда не управляли самолетом. Казалось бы, должно быть наоборот, но — нет. Мы в лаборатории тоже видим закономерность: чем опытнее водитель автомобиля, тем сильнее его укачивает, если он будет управлять автомобилем в VR. Есть много гипотез, почему так происходит. Мы склоняемся к версии, что, если человеку сам контекст выбранного VR-тренинга дается легко, он обращает больше внимания на несовершенство виртуальной среды и, как следствие, хуже реагирует на VR. Тогда как неопытные водители тратят все внимание на сам тренинг и физически чувствуют себя лучше.
Много статей есть по терапии фобий, где подтверждается, что эффективность терапии с помощью VR как минимум не хуже, чем обычной. В классическом варианте человек сам в своем воображении воспроизводит травмирующий опыт. В случае с VR стимулы включаются извне, к ним можно адаптироваться постепенно, и гораздо меньше пациентов бросают VR-терапию. Очень легко написать и реализовать сценарий, который поможет постепенно справиться со страхом высоты. Мы, например, сделали такой концепт: в VR между человеком и пропастью может оставаться заграждение, а может пропадать. Вторая наша задумка – симуляция лифта. В зависимости от состояния человека лифт либо останавливается, либо поднимается еще выше. Тут даже не обязательно помещать пациента в специальную кабину, имитирующую потряхивания в кабинке — достаточно визуального и аудиального каналов. Если датчики показывают, что человеку становится плохо, мы останавливаем сценарий. То же самое со страхом пауков, например. В VR человек с арахнофобией может сперва смотреть на них издалека, потом подходить ближе. Если приобретем VR-перчатки, то сможем имитировать тактильный контакт. Число рекомендуемых сеансов может быть разным. Но в итоге фобию удается победить.
— Что можете сказать о противопоказаниях к VR — есть ли они?
— К сожалению, этот вопрос открыт — статьи на эту тему единичны. Есть исследования по противопоказаниям к VR: они касаются людей, у которых эпилепсия, и с грубыми нарушениями сосудисто-сердечной системы. Но мне никогда не встречались такие исследования по возрастным группам, по детям, в частности. Полную картотеку, при каких нарушениях в VR можно, а при каких нельзя, еще предстоит создать.
Опять же, есть так называемая киберболезнь, с проявлениями которой мы часто сталкиваемся. Производители шлемов не для массовой продажи, а для применения на производствах и в тренингах, постоянно работают над улучшением графики, точности, позиционирования. Предполагается, что как только графика будет отображаться максимально точно, никого не будет укачивать в VR-устройствах. Но все равно есть люди, которые даже после 5 минут в очень простом сценарии очень плохо себя чувствуют весь день.
Зависимости от VR возникает так же, как и любая игровая зависимость. Человек может так же потерять связь с реальностью, начать странно воспринимать реальный мир. Но это мы говорим о крайних случаях, которых не так много. Так что я бы пока не отправляла всех подряд в VR-клубы и не утверждала, что VR это совершенно безопасно, а там более полезно. И если вам в VR стало некомфортно, совет один: выходите.
— Вернемся к киберпсихологии. Как можно выучиться на киберпсихолога и где работают ваши выпускники?
— В магистратуру по киберпсихологии можно прийти в любом возрасте, имея базовое образование на уровне бакалавриата или специалитета. Чтобы поступить к нам учиться, нужно сдать тесты по основным аспектам психологического бакалавриата и по основам киберпсихологии. В учебный план магистратуры кроме психологических дисциплин входят основы науки о данных, Big Data и программирования на Python. Кроме того, магистранты в нашей лаборатории могут участвовать в исследованиях на стыке когнитивной психологии и нейрофизиологии, активности мозга в разных контекстах. Штат лаборатории — это заведующий и несколько кураторов на разных проектах, но мы всегда рады волонтерам, а молодежь тянется к нам.
Позиции киберпсихолог пока нет в запросах работодателей. Но знания, как работает организм и психика человека в виртуальных средах, много где могут пригодиться.
Дизайнеру, например, знания по киберпсихологии помогут оценить то, что он проектирует, не только ориентируясь на базовые принципы дизайна, но и проведя фокус-группу с анализом движения глаз, например. Любая команда программистов должна быть гибридной и включать в себя психологов. Как привлечь новые аудитории, сделать игру захватывающей — это все про психологию.
Киберспорт становится все популярнее, и киберпсихолог может помочь киберспортсмену быстрее достичь своего предельного уровня — определить индивидуальный стиль человека, выстроить график тренировок в зависимости от его качеств, типа игры, на которой он специализируется.
Классические психологи вполне могут обучиться киберпсихологии и тем самым расширить спектр своих возможностей. Одна из наших магистрантов, например, хочет консультировать онлайн, и учит киберпсихологию, чтобы лучше понимать, как происходит взаимодействие между учителем и учеником, опосредованное машиной.
Сама я специализировалась на психофизиологии, параллельно с работой на кафедре психологии Факультета социальных наук была психологом-консультантом в компании Harman, где выучила основы языков программирования и машинного обучения. Когда наш факультет выиграл грант на открытие магистратуры по киберпсихологии, мой опыт работы в реальной ИТ-компании очень пригодился при составлении учебной программы.
— Над чем, кроме всего перечисленного, вы трудитесь сегодня?
— Над выпуском первого в России учебника по киберпсихологии. Магистратуры в разных вузах России готовы добавить в учебную программу курс по киберпсихологии. А для этого желательно, чтоб по киберпсихологии были не только отдельные статьи, как сейчас, а отечественный учебник в открытом доступе. Мы такой учебник уже написали и теперь он на стадии финальной верстки. Мы сделали это для того, чтобы любой вуз мог им воспользоваться. Ожидаем выход учебника в этом году.
— Большое спасибо за беседу!